В «Редакции Елены Шубиной» вышла новая книга беларуской писательницы и журналистки Татьяны Замировской «Свечи апокалипсиса». В ней Замировская рассказывает о том, как после переезда в Нью-Йорк работала в бутике элитных свечей. Через множество ироничных и грустных бытовых зарисовок поступают более широкие размышления о положении эмигранта и беспомощности. А фоном оказываются масштабные потрясения — пандемия, движение BLM и беларуские протесты 2020-го. «Новая газета Европа» поговорила с Татьяной о ее новой книге и творчестве, беларуской литературе в эмиграции, репрессиях и глобальном кризисе смыслов.
Татьяна Замировская родилась в 1980 году в Борисове. Работала музыкальным журналистом и арт-критиком, публиковалась во многих независимых СМИ Беларуси, вела музыкальный подкаст для радио «Рация». В 2015-м переехала в Нью-Йорк, где окончила магистратуру изящных искусств Bard College. В 2021–2025 годах работала в «Голосе Америки». Автор романа «Смерти.net» (2021), сборников рассказов «Жизнь без шума и боли» (2010), «Воробьиная река» (2015), «Земля случайных чисел» (2019), сборника нехудожественной прозы «Эвридика, проверь, выключила ли ты газ» (2024). Живет в Нью-Йорке.
Свечи за $600
— Ваша новая книга — роман из автобиографических зарисовок о том, как вы работали в Нью-Йорке в магазине элитных свечей в 2019–2021 годах. Как вы поняли, что этот этап жизни нужно превратить в книгу?
— Книга родилась из историй, которые я писала в блогах параллельно с романом «Смерти.net». Я бы не сказала, что «Свечи…» целиком автобиографичны. В диалогах с покупателями я ничего не меняла. Я не беллетризировала реальность, но беллетризировала саму себя в ней и из себя делала литературу. Когда я пришла работать в магазин свечей, мне сказали: «Поработай менеджером пару недель». И вдруг оказалось, что некому больше взять на себя эту функцию.
Странная карнавальная реальность: я, писательница и студентка арт-школы, внезапно играю роль менеджера, которым никогда не собиралась становиться. Я была в сложной ситуации. Устала, мне было тяжело, и я не видела в этой работе смысла. А я не могу заниматься бессмысленными вещами. Это издевательство над природой человека. Покупать свечи за $600 — самое бессмысленное, что может быть. И я подумала: «О’кей, я буду персонажем, буду записывать это в блог, чтобы не сойти с ума». Тогда я еще не знала, сложится из этого книга или нет. Блог неожиданно стал популярен, оказался терапевтическим для многих людей, потому что, наверное, многие работают на бессмысленных работах. А тут видно, как человек из этого пытается создать смысл. В итоге, когда меня пригласили на «Голос Америки», я не без переживаний прощалась с этим моим персонажем, к которому уже привыкла за несколько лет.
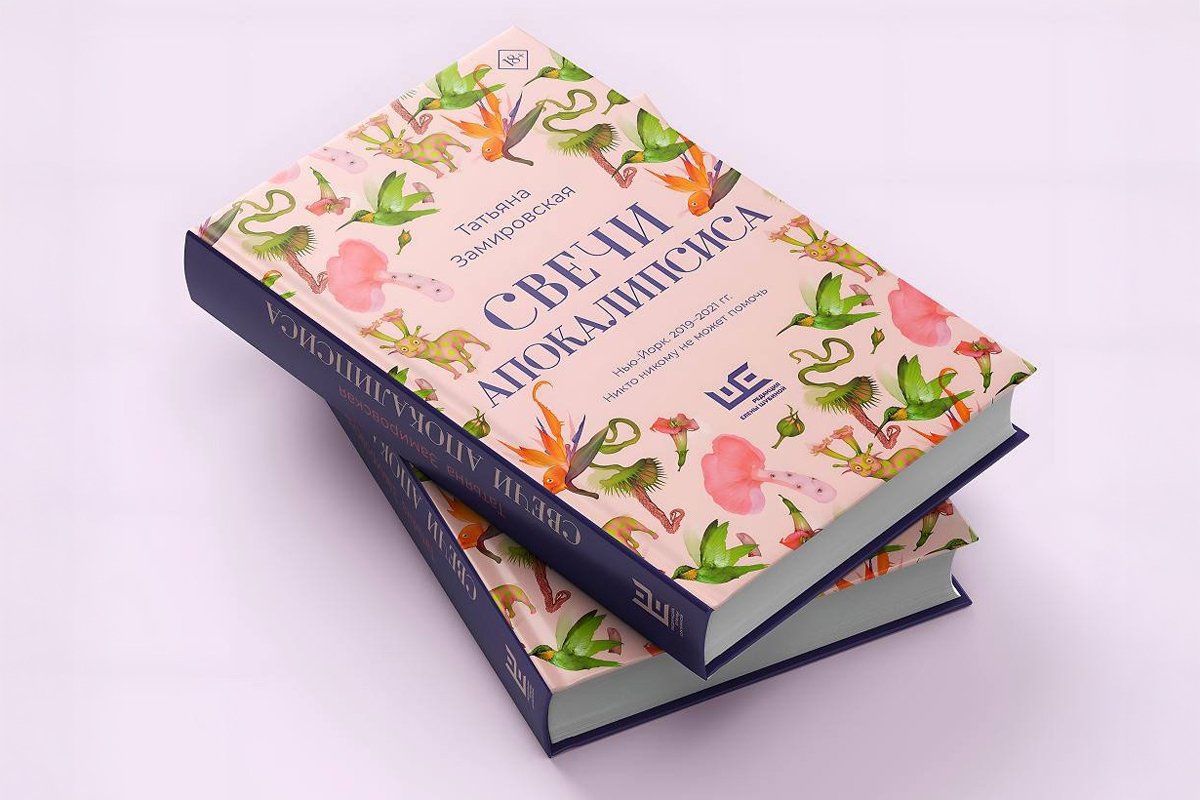
Обложка книги Татьяны Замировской «Свечи апокалипсиса». Фото: Редакция Елены Шубиной / VK
— А когда вы поняли, что этот проект состоялся?
— В 2020-м, когда начался ковид, смешные заметки внезапно стали страшными. Многим нашим покупателям казалось, что ароматические свечи и парфюмерия — жизненно важные вещи. Поэтому мы продавали их онлайн. Все сидели дома, тревожились и жгли свечи. Но бутик прикрыли и никаких компенсаций не дали. Я в ужасе была от того, где мне брать деньги. Даже в блог написала, что, если кто-то хотел сказать мне спасибо как автору, то вот мой PayPal. Удивительно, даже какие-то деньги пришли, и я смогла оплатить месяц аренды. Я была благодарна читателям, не могла не продолжать блог и стала писать заметки про пандемию в Нью-Йорке. Примерно тогда я поняла, что получится книга, и она будет про Нью-Йорк и творческого эмигранта на нетворческой работе. А вокруг — апокалипсис. За ковидом начались протесты BLM.
Потом — события в Беларуси августа 2020-го. Беларуские протесты были сильно связаны с самоорганизацией людей во время ковида. Беларуский режим ничего не сделал для помощи людям — было полное отрицание пандемии. Люди начали организовываться в кластеры, чтобы друг другу помогать. И на фоне подготовки к выборам стало понятно, что мы можем все собраться и что-то сделать. Это было пробуждение беларуского народа как самоорганизующейся и самодвижущейся силы. Дальше выборы в Америке — всё это тоже попало в книгу.
При редактуре первую половину приходилось сильно полоть, а вторая шла прямо отлично, потому что я уже знала, что это будет книга, и писала заметки с этим знанием.
— Вы приводите рассуждения поэта Александра Гальпера о том, что писатели, работающие на творческих работах, пишут самые нетворческие книжки. Что, например, писателям, которые устраиваются в университеты, в результате не о чем писать, потому что они живут во многом в интеллектуальном абстрактном мире. У вас как раз наоборот: книга написана с земли и полнится жизненной фактурой.
— Гальпера я цитировала как раз потому, что он меня пытался утешить в этой моей работе и говорил, что такая книга будет очень широко замечена. К сожалению, писатели в США пишут скучно. Я обожаю американский нон-фикшн, автофикшн. Я покупаю тоннами книги авторов, которые не выдумывают литературу, а создают ее из окружающего мира. Но фикшн американский мне тяжело читать, он действительно скучноват. Я обожаю книжку Сигрид Нуньес «Друг», но там всё равно герои — преподаватели в колледже.
Я не люблю жанр, когда журналист пошел поработать на завод, притворившись рабочим, и сейчас всем расскажет, каково это. Тут есть какое-то мерзкое высокомерие. А когда творческий человек сам оказался в такой ситуации и от его действий зависит кусок хлеба и выживание, это становится интересным. Даже если в таком тексте много юмора, в нем всегда есть и драма. Я рада, что у меня был такой опыт, и я из него сделала книгу. Сейчас я ищу работу. Когда перечитывала верстку, подумала, что никогда больше в бутик не пойду. Но если бы я давала себе совет в прошлое, то дала бы именно такой совет: «Не бойся нетворческих работ. Предложили тебе первую попавшуюся работу в магазине — бери. Ты очень многому научишься».

Шествие против результатов президентских выборов в Минске, Беларусь, 18 октября 2020 года. Фото: EPA
— А чему вы там научились?
— Я научилась в другой стране в одиночку и с нуля быть менеджером бизнеса в центре Нью-Йорка. Даже сейчас, когда делаю резюме, всегда это упоминаю. Я заказывала доставки из Парижа, формировала грузовые контейнеры, вела таблицы. Меня это тоже как-то успокоило. Я поняла, что человек может всему научиться. Надо пробовать.
Мне в бутике всё время казалось, что я играю роль. Ну как я могу быть менеджером какого-то бизнеса? Это смешно. А потом я заметила, что все клиенты — финансисты, банкиры, брокеры, — они тоже играют роли. И мы все как дети на карнавальной вечеринке в костюмах снежинок и зайчиков. Сама Америка себя создала и делает как арт-проект. В бутике я нормально выучила английский. Пока с людьми с разными акцентами не поговоришь по телефону, ты его и не выучишь. До этого у меня был колледж-инглиш, не подходящий для улиц. Еще мне кажется, что я научилась лучше понимать людей. Казалось бы, журналисты должны понимать людей, но нет, надо поработать на такой немножко понижающей тебя в социальной иерархии работе, чтобы лучше понимать человечество. Благодаря ей я узнала и как бы присвоила Нью-Йорк — это тоже бесценно.
— Книга писалась в одном контексте (2019–2021), а выходит в совсем другом. Как вы видите ее задачу сейчас?
— Я переживала, что «Свечи…» долго находились в каком-то издательском чистилище. А сейчас, я думаю, они выходят вовремя, потому что очень много эмигрантов, растерянных людей и тех, кто не может найти работу. Часто тяжело себя уговорить взяться за какую-то простую работу, если ты хочешь преподавать в университете. Мне было уже за 30, и тут я вдруг буду не редактором, как всегда, а продавцом. Мне кажется, сейчас эта книга может быть источником поддержки для эмигрантов, работающих не на тех должностях, которые их кругу кажутся престижными.
Эта книга должна показать, что из всего можно сделать арт-проект и всё может стать помогающим опытом.
Более того, вы никогда не знаете, кого встретите на таких работах. Мы общались, например, с чудесным писателем Дэвидом Седарисом, который в New Yorker пишет. Он много раз приходил в бутик. Я ему присылала свои рассказы почитать. И он даже меня поддержал, сказал, что сам стал известным, когда работал рождественским эльфом в универмаге и написал душераздирающую историю о том, как его там мучили покупатели. История выстрелила, и так началась его большая писательская карьера.
Те, кто, например, против эмиграции, могут почитать и подумать: «Вот они на Родине такие творческие были, в университетах преподавали. А сейчас продают свечи миллионерам в Сохо. Так им и надо». А другой, наоборот, почитает и подумает: «Ну, не так уж плоха моя жизнь». Кто-то решит: «А напишу-ка я про свою работу». Больше людям ничего и не надо — посмеяться и почувствовать при этом, что тебя утешили. У меня, наверное, это получилось, хотя я никогда не думала, что я утешающий персонаж.

Татьяна Замировская. Фото: Ольга Рабецкая
Сны о Лукашенко
— В 2024 году появилась новость, что режиссерка «Хрусталя» Дарья Жук будет экранизировать ваш рассказ «Именно то, чем кажется», а вы будете соавтором сценария. Сюжет в том, как беларуские ученые разработали для режима квантовую технологию, которая забрасывает ностальгирующих эмигрантов назад в страну, — и это происходит с героями.
— Я раньше исследовала сны беларусов о Лукашенко. Мне было интересно, как авторитарная фигура функционирует в коллективном бессознательном. Я набрела на повторяющийся сон эмигрантов о том, как они внезапно оказались у себя на родине. Это всегда кошмары были, а потом они просыпались в новых странах с мыслью: «Слава богу, что я здесь». И я начала размышлять про этот сон. Почему он не вызывает радости: «Ой, сейчас я пойду увижу маму, прогуляюсь по любимым улицам»? Почему родина вызывает страх?
Рассказ оказался терапией для огромного числа беларусов. Я себя прямо ощутила народным автором и поняла, что сделала что-то полезное. В сценарии мы с Дашей исследовали тему страха. Исследовали, что такое дом и как меняется его понимание, когда тебе там опасно быть. И еще важна тема вепонизации (weaponisation) ностальгии. Тоталитарные режимы всегда делают ностальгию оружием. Это происходило в путинской России, где ностальгия переплавилась в ресентимент, и в США — с идеей возвращения к великой Америке, которая тоже ностальгический миф. Насколько ностальгия вообще хорошее чувство? В фильме об этом будет даже больше, чем в рассказе.
— В рассказе герой постоянно просит свою девушку в публичных местах говорить по-русски, а не по-беларуски. Насколько для беларуской оппозиции важен языковой вопрос? И как вы на него смотрите?
— Сам рассказ билингвальный. Я начала его писать на беларуском, но что-то было не натурально. Потом начала по-русски писать — и тоже не то. А когда Наде дала беларуский язык, а Федору — русский, всё заработало. Я увидела между ними какое-то напряжение драматургическое. Напряжение не в смысле противодействия языков, а что они оказались в ситуации, в стране, месте и времени, где говорить по-беларуски опасно. Поскольку текст о страхе — это очень важно. Потому что в Беларуси, если ты говоришь на беларуском, ты враг режима. Беларускоязычной всегда была та часть культуры, которая развивалась и отражала социальные и политические события, происходящие в стране. Поскольку это культура отражающая, она неминуемо опасна для диктатуры.
Наши столпы Василь Быков, Алесь Адамович, Рыгор Бородулин всё-таки были беларускоязычными и всегда были против режима. Бывали раньше в Минске ситуации, что если ты просто говоришь по-беларуски на глазах не тех людей, то до тебя могут докопаться.
При этом Беларусь всегда была мультилингвальной. В БНР (существовала с 25.03 по 03.12.1918. — Прим. авт.) государственными были беларуский, русский, идиш и польский. И как-то всё было очень толерантно. При Сталине всю эту беларускую интеллигенцию расстреляли, почти никого не осталось. И дальше была такая немножко выхолощенная и не очень живая советская беларускоязычная культура. А в 1980–1990-х она начала цвести и развиваться. Исчезающему языку нужно очень много поддержки, и я жалею, что у меня нет большего количества рассказов на беларуском. Но важно, что для нас, когда один человек говорит по-русски, а второй ему отвечает по-беларуски, это совершенно нормально.
Я много переживала в юности, что пишу на русском языке. Беларуский я толком выучила лишь в студенчестве, когда увидела, что самые талантливые писатели и музыканты, которыми я восхищаюсь, — все беларускоязычные. Что беларуский — это язык высокой интеллектуальной культуры в моей стране. И что, если я не буду его знать и на нем хотя бы делать журналистику, я буду вне моих родных прекрасных людей. Поэтому не знать его было как-то стыдно.
Беларуская литература между изгнанием и репрессиями
— Есть мнение, что беларуская литература расцвела в эмиграции. Но есть и взгляд, что ее успехи не стоит переоценивать, потому что тиражи у эмигрантских издательств небольшие, а у эмигрантских книжных скромная аудитория.
— Мне кажется, беларуская литература даже внутри страны всегда была как бы в эмиграции. Наши самые великие писатели, тот же Василь Быков и Светлана Алексиевич, периодами жили в эмиграции. Это было нормально, что главные беларуские авторы живут не в Беларуси, потому что тут им жить небезопасно. Все наши приличные издательства, выпускавшие актуальную литературу, были независимыми.
Книгоиздатель в Беларуси 1990–2010-х — рискованная профессия. С тобой в любой момент могло произойти что угодно.
Ситуация не похожа на российскую, где в больших издательствах выходили книги хороших писателей, а потом их вытеснили, и теперь они издаются у Урушадзе (Freedom Letters) и у Гаврилова (Vidim Books). У нас это одни и те же издательства. Им было тяжело внутри страны, а сейчас они выехали в эмиграцию, и им тяжело там. Даже вот книжная ярмарка минская — там для всех незалежных издательств был маленький стенд, где и была представлена самая крутая беларуская литература: Ева Вежновец, Ольгерд Бахаревич и вообще просто все. А остальное гигантское выставочное пространство занимали какие-то мутные госиздательства с книгами в духе «союз Беларуси и России живет вечно». Сейчас, может, даже культура немножко вышла из резервации, потому что издательства переехали в Европу, открылись новые — Skaryna Press, Gutenberg Publisher, «Мяне няма». Книжный магазин Bukinistka в Варшаве тоже недавно создал издательство. За рубежом, мне кажется, и тиражи больше. Даже моя книга «Эвридика, проверь, выключила ли ты газ» вышла сразу тиражом 800 экземпляров, что много для беларуского маленького только открывшегося издательства («Мяне няма», 2024). Тираж разлетелся очень быстро, и они напечатали новый. Как-то эти книги и в Беларусь попадают.

Оппозиционный митинг в Минске, Беларусь, 18 августа 2020 года. Фото: Yauhen Yerchak / EPA
— А насколько сейчас внутри Беларуси цензура определяет лицо книжной индустрии? Появляются ли там стоящие книги?
— Слово «цензура» — оно тоже какое-то русское. У нас вместо цензуры репрессии: музыкантам, например, сразу навсегда запретят выступать где бы то ни было, а с радио уберут их песни. Сразу черные списки — и всё убивается. Я думаю, что люди что-то пишут. Например, в «Мяне няма» сейчас выходит книга «Дзеннік 2021–2022» анонимной авторки, которая внутри Беларуси находилась в последние годы и вела дневник. В стране остались очень хорошие поэты — имена называть не буду, никого не хочу подставить.
— А какие из вышедших за последнее время эмигрантских книг вам кажутся наиболее интересными?
— В «Мяне Няма» чудесные книги выходят, поскольку они издают «теневую» русскоязычную беларускую литературу. Я рекомендую политический эко-хоррор Тони Лашден «Чорны лес». «Грибные места» Дарьи Трайден — тоже очень беларуская сильно связанная с землей и пространством книга. Вообще, беларусы себя определяют через пространство, а не через идею. Издатель Павел Антипов выпустил собственную книгу «Куда-нибудь приезжать, что-нибудь делать и уезжать». Я ее прочитала с ошеломляющим даже восторгом и подумала, что Антипов — наш Юрий Олеша. У него такой легкий трагикомизм в интонации. А книга подойдет, чтобы узнать нас, беларусов, вообще. Она и про меня тоже. Когда, с одной стороны, ты ездишь в Москву на все эти Липки, Переделкино и на тебя там смотрят как на такое диковинное существо: «Надо же, она вроде как мы, но немножко не как мы». А с другой стороны, ты тусуешься с беларускамоўнымі литераторами. С третьей — ездишь в Варшаву, потому что там европейская культурная жизнь. Ты между Варшавой и Москвой и не можешь понять, кто ты в этом всём. Абсолютно типичная проблема всех русскоязычных беларусов, которые были молодыми в нулевых.
Есть панковское издательство «Лысы чэрап» внутри Беларуси. Там Андрей Дудко издает абсолютно неформальную, очень авангардную злую литературу. Он выпустил роман «Каждый охотник» Константина Стешика. В России его хорошо знают как драматурга, но он и прозаик великолепный. У него такая темная экзистенциальная литература, которая эстетически похожа на смесь Елизарова с Мамлеевым и группой «Гражданская оборона». Очень хорошая эмигрантская книжка «Моє баба — діректор морга». Авторка, живущая в Новой Зеландии, себя назвала Голя з Ополя. Это книга про бабушку писательницы, написанная на полесском диалекте с параллельным переводом на английский. Читаешь — и открываются глаза на то, какой разнообразной может быть беларуская культура.
Словить большую рыбу
— Это вопрос к вам в первую очередь как к журналисту, но во вторую — как к писателю. В последние годы у многих есть ощущение, что в мире происходит кризис ценностей и смыслов. Бывает ли у вас чувство бессилия и бессмысленности вообще журналистики и культуры в мире, где создается очень много текстов, блогов, актуальных произведений искусства, а политическая ситуация вокруг становится только хуже? Как вы с ним боретесь?
— Как журналист я это тяжело воспринимаю. В 2022-м я спросила у Андрея Кагадеева из группы «НОМ»: «Что делать? Может ли искусство как-то помочь в этой ситуации?» Он сказал, что искусство помогает это всё подсветить и показать, что ты не один. Оно способствует какому-то объединяющем моменту. Но вылечить, улучшить и спасти, по большому счету, конечно, не может.

Татьяна Замировская. Фото: Ольга Рабецкая
Я тоже не понимаю сейчас, есть ли смысл в новом времени работать журналистом. Я расстроена, разочарована и на распутье, конечно, нахожусь. Прежде всего разочарована в аналитике. Блоги, ютуб, какие-то интервью, тексты — их такое огромное количество, что я не понимаю, зачем это нужно. Меня спрашивают: кого ты смотришь? Я думаю: «Господи, а кого я смотрю?» Я никого не смотрю. Мне бы с собой разобраться. Аналитика как будто сейчас никуда не ведет. С другой стороны, люди хотят, чтобы им ChatGPT что-то про мир и про них объяснил. А если им нет разницы, им ChatGPT объяснит или условная Шульман, то зачем это всё вообще нужно? Это кризис мышления из-за бесконечного перепроизводства, на мой взгляд, абсолютно ненужной аналитики.
— Какова роль литературы как медиума в пространстве, где ей приходится соседствовать с кино, сериалами, ютуб-контентом, стендапом? Этого контента очень много, и он более быстрый и простой для восприятия. Если проще, зачем сейчас заниматься литературой?
— Мне кажется, литература отличается именно тем, что она медиум в спиритическом смысле. Это как бы связь через предмет, книгу с другим сознанием. В этом смысле я считаю себя очень счастливым писателем, пусть денег мне это и не принесло. Но даже такая сложная книга, как «Смерти.net», нашла классных читателей, которые вернулись со мной в прошлое и за руку прошли через темный лес, где я находилась, пока ее писала. То есть литература — это совместный путь. Работа погружения в концептуальные и временные слои — как путешествие во времени.
Перформативные медиа быстротечны, происходят здесь и сейчас: посмотрел — выключил. А литература побеждает время, создает связь, и в этом есть какая-то магия, которая сейчас в мире встречается очень редко.
Помню, как меня удивляла критика «Смерти.net». Кто-то написал, что эта книга плохо развлекает. Но у меня и не было цели развлечь. Я, батенька, не развлекать вас пришла, а пригласить разделить со мной довольно сложный путь. Вы туда или идете, или нет. Фильмы Дэвида Линча не развлекают. Вы погружаетесь в его бессознательное. Он сам погрузился через медитацию, словил свою большую рыбу, и мы спускаемся туда к нему по этой лестнице или не спускаемся. Это не искусство развлечения, а именно метафизический опыт, который мало где можно получить.
Делайте «Новую» вместе с нами!
В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.
Нажимая кнопку «Поддержать», вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.
Если вы захотите отписаться от регулярного пожертвования, напишите нам на почту: [email protected]
Если вы находитесь в России или имеете российское гражданство и собираетесь посещать страну, законы запрещают вам делать пожертвования «Новой-Европа».

