27 июля 2024 года в СИЗО Биробиджана погиб 39-летний Павел Кушнир, пианист, композитор и писатель. За решетку его поместили за антивоенные ролики, которые он выложил в собственном ютуб-канале «Иноагент Малдер». На него было подписано пять человек. После его смерти о Павле Кушнире узнали во всем мире: сегодня ему посвящают концерты, статьи, выступления, книги. В июле 2025 года режиссер и продюсер Рома Либеров вместе с предпринимателем Эдуардом Пантелеевым учредили в Лондоне благотворительную стипендию имени Кушнира, а в издательстве «Медузы» вышла его книга «Биробиджанский дневник» (об истории издания можно прочитать здесь). Об этой книге и о том, как текст стал способом Кушнира выступить против войны, рассказывает Семен Владимиров.
«Аляска — это Россия, а Россия — это смерть», — пишет Кушнир под впечатлением от фильма об умершем на Аляске американском туристе. Он пишет это в декабре 2022 года, в Биробиджане больше минус двадцати, «частичная» мобилизация идет уже три месяца, и музыканту кажется, что его усилия по борьбе с госпропагандой провалились. Брошенные в почтовые ящики листовки и приклеенные к скамейкам плакаты не вызывают ощутимой волны солидарности. Его огненные речи на ютуб-канале «Иноагент Малдер» смотрят не больше десяти человек (позже ролики станут поводом возбудить против музыканта уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности — часть 2 статьи 205.2 УК). Но несмотря на отчаяние, сдаваться он не собирается: в одном из роликов вспоминает «1984» и то, как страшнейшим грехом главных героев было предать друга друга, а значит, и самих себя. Идею предавать нельзя: она всё, что у тебя есть.
Писать о человеке, который стал известен как писатель только после смерти, немного странно. В конце концов, Кушнира больше знали как музыканта: выпускник Московской консерватории, работал в филармониях Курска и Кургана, а также был концертмейстером в Тамбовском государственном музыкально-педагогическом институте. В 2023 году он стал солистом Биробиджанской областной филармонии. Его передачу «Мазурки по средам» слушали на областном радио. То есть у Кушнира была успешная карьера, по меркам карьеры в современной российской классической музыке. Но была и обратная сторона — то, что ему было отвратительно: пассивность его коллег по филармонии, примирение с реальностью, где страна ведет войну, а город, где он работает, якобы бьет рекорды по мобилизации. Всё это он описывает в дневнике. Кушнир, перефразируя Уитмена, огромен, он содержит множества: и талантливый пианист, и художник, и замечательный писатель. Только литература нужна ему для конкретной цели: не для самореализации, а для выражения протеста и отчаяния.
«в Брянской области подрыв железнодорожного полотна
Оля Шкрыгунова прислала короткий привет,
я в ответ ей выложил целый рассказ про
свои действия в жанре наглядной агитации
не выложил а написал в электронной почте, я
уже ничего не соображаю
в ответ Оля пишет мне по-немецки,
что каждый умирает в одиночестве:
“Jeder stirbt für sich allein”
если это и так, то убивают люди обычно вместе».
Культуру продвигают приспособленцы, а антифашистский вечер в библиотеке проводит фашистка (сторонница войны и Путина) — дневники Кушнира полны такой грустной иронии.
Ясно, что «Биробиджанский дневник» — непростой текст. Наблюдения за природой, например, за красотой лунного затмения, перемежаются тут с жалобами на одиночество и попытками проработать травму отношений с родителями («первым палачом был тот, у кого были родители», «фашизм начинается с семьи»). Кушнир, как и любой политзаключенный, был не святым, но это и делает текст живым. При всей начиненности литературными аллюзиями — от древних авторов до Бодлера и умершего в 2021 году поэта Василия Бородина — текст не создает впечатления о Кушнире как о высоколобом эссеисте. Он даже кажется каким-то… обычным. Он матерится, не стесняется писать о запое, мечтает об оставшейся в прошлом возлюбленной и заглядывается на местных девушек. Да, он может в одиночку сыграть все фуги Рахманинова за один концерт и блестяще разберет мазурки Шопена, но любимыми музыкантами всё равно считает Курта Кобейна и Янку Дягилеву, словно подросток-неформал. Да, список его главных фильмов вызывает уважение, там много артхаусного кино и классики кинематографа, но многие из этих фильмов давно стали мейнстримом: «Асса», «Семь самураев», «Рассекая волны», «Мектуб, моя любовь», фильмы Тарковского.
Это всё не уменьшает подвиг Кушнира, а наоборот, делает его еще более важным в контексте российской оппозиции времен войны: даже обычный человек может найти в себе силы выступить против путинской «СВО» и диктатуры, просто разбрасывая листовки или записывая ролики на ютубе. Что подвело Кушнира — это его неосторожность.
Но, учитывая суицидальные мысли и то и дело мелькающую идею самосожжения, можно допустить, что для Кушнира прозвучать как можно громче было важнее соображений безопасности.
Литературы, ставшей для него прибежищем, уже явно не хватало (грандиозный роман Кушнира «NOEL», посвященный леворадикальной террористке Ульрике Майнхоф и написанный десятком разных языков, так и не был до сих пор опубликован).
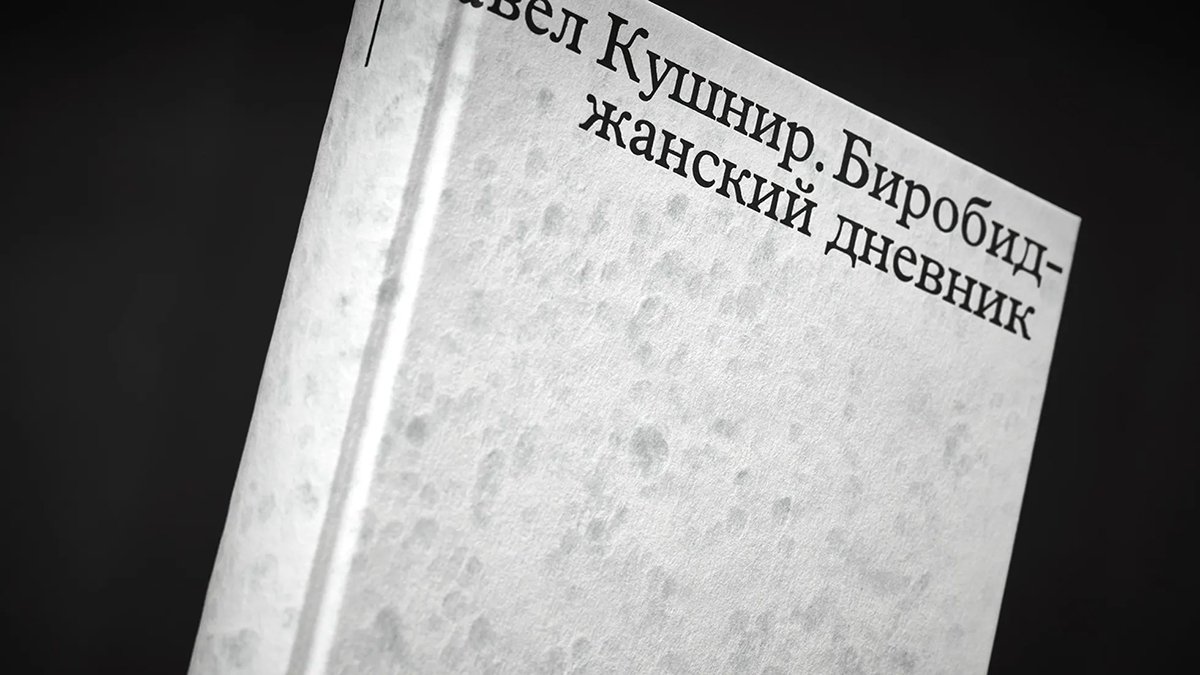
Фото: «Медуза»
Интересными тексты Кушнира делает и метод нарезок. Его придумал румынский писатель-сюрреалист Тристан Тцара и популяризовал знаменитый битник Уильям Берроуз, известный по роману «Голый завтрак». Суть в том, что автор нарезает цитаты из других текстов и перемешивает их друг с другом, вставляя в собственную рукопись. Таким образом из смешения готового рождается новый смысл.
Например, в романе «Русская нарезка» Кушнир смешал тексты четырнадцати советских романов о войне. В результате получилась картина бессмысленной бойни. Для Кушнира метод «нарезок» казался идеальным способом писать о реальности в эпоху соцсетей. Дескать, информации стало так много, она настолько обрывочна и противоречива, что лучший способ с ней взаимодействовать — смешивать и смотреть, что будет. Однако, читая главу в «Русской нарезке» о семье, которая спешно бежит из города на фоне новостей о начавшейся войне, трудно удержаться от мысли, что тексты Кушнира лучше всего отражают реалии нынешней российско-украинской войны, где факты трудно отличить от фейков, а культурные связи разрушены, как десятки украинских городов.
Пожалуй, главное в «Биробиджанском дневнике» — это чувство несоответствия.
Сам текст будто не выдерживает того, что в нем происходит. Язык то густеет от культурных аллюзий, то рассыпается в обрывках мыслей.
Протест заявлен, но не оформлен. Литература работает, но не спасает. Музыка уходит в тень. Он будто всё время ищет подходящий ключ — к себе, к реальности, к читателю — и не находит.
Сьюзен Сонтаг писала, что интеллектуал — это беглец от опыта. Кушнир не бежал. Его дневник — это не исповедь и не манифест, а форма удержаться внутри происходящего, когда все привычные средства самосохранения — и юмор, и дистанция, и эстетская поза — больше не помогают. Он был многословным, ранимым, местами душным. Но именно это и делает текст живым. Потому что за всеми цитатами, нарезками, реминисценциями проглядывает главное: он не хотел уйти молча. И оставил книгу, в которой — при всей ее неровности — звучит опыт, не разложенный по полочкам, но прожитый до конца.
Делайте «Новую» вместе с нами!
В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.
Нажимая кнопку «Поддержать», вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.
Если вы захотите отписаться от регулярного пожертвования, напишите нам на почту: [email protected]
Если вы находитесь в России или имеете российское гражданство и собираетесь посещать страну, законы запрещают вам делать пожертвования «Новой-Европа».

